 Картовые походы
Картовые походы
Автор: Михаил Глебов, февраль 2003
В любом состоянии нашей жизни необходимо известное равновесие; чем ожесточеннее ведется штурм, тем прочнее должна быть фортификация. Человек, со всех сторон осажденный неприятностями, лихорадочно ищет хотя бы минимальные источники удовольствия. И поскольку, в моем случае, дело шло не о казни преступника, а лишь о максимальном напряжении душевных сил в борьбе с наследственным злом, Господь умерял натиск школьных озорников и также давал мне возможность отсидеться, отвлечься, забыться, взять небольшой реванш на других фронтах.
 Главной отдушиной моей жизни, без сомнения, оставалась дача, которая ведь служила не только летом, но целых семь месяцев в году - с половины апреля по середину ноября. К сожалению, тонкий щитовой дом (и лень родителей) не позволяли оставаться в холодное время на ночь; поездки большей частью ограничивались одним воскресеньем (в субботу я к тому же учился), но и воскресенья хватало: какое счастье было, едва выскочив из машины, по усыпанной листьями кирпичной дорожке бурно ворваться во владения Черниковых, где Татьяна Федоровна, зябко укутанная в тулуп, очищала гряды от мертвых растений. "А-а, здравствуй, Миша. А Света на террасе."
Главной отдушиной моей жизни, без сомнения, оставалась дача, которая ведь служила не только летом, но целых семь месяцев в году - с половины апреля по середину ноября. К сожалению, тонкий щитовой дом (и лень родителей) не позволяли оставаться в холодное время на ночь; поездки большей частью ограничивались одним воскресеньем (в субботу я к тому же учился), но и воскресенья хватало: какое счастье было, едва выскочив из машины, по усыпанной листьями кирпичной дорожке бурно ворваться во владения Черниковых, где Татьяна Федоровна, зябко укутанная в тулуп, очищала гряды от мертвых растений. "А-а, здравствуй, Миша. А Света на террасе."
Но там уже поднималась возня, дверь шумно распахивалась настежь, и вниз по ступенькам слетала румяная Света в теплом вязаном свитере; за ней, словно шар, выкатывалась толстая Татка, и чумазый, взъерошенный Бэмби поднимал оглушительный лай. И мы бежали за калитку, на вспаханное тракторами поле, и дальше, к хмурому осеннему лесу, где в желтом кружеве опавших листьев прятались темные шляпки подберезовиков. На три-четыре часа ко мне возвращалось летнее счастье; но вот уже зовут на террасу, где отец разливает из термоса чай, и это значит: пора возвращаться. Я угрюмо сажусь в машину, Света и Татка машут рукой, а на горизонте, за облетающим лесом Централки, уже вырисовываются контуры проклятой школы.
Но ведь и дома, после уроков, не все время уходило на вздохи да на пасьянсы: я много читал, стрелял из пушки в солдатиков, донимал астрономией деда; потом возвращались родители, в столовой пробуждался телевизор (в 1971 году на смену допотопному "Темпу-2" пришел "Электрон" с большим экраном), родители звенели тарелками, сияла люстра, становилось веселее. Зимой по выходным мы дважды обходили окрестные магазины, или даже наведывались в Парк Культуры с его аттракционами, или шли с отцом на утренний киносеанс, или днем посещали музыкальные представления, или вечером отправлялись в Зал Чайковского на танцевальный абонемент. Линия домашней жизни, хотя и шла по убывающей, пока еще светила довольно ярко, и все эти занятия в совокупности составляли реальный противовес школьному мраку.
Однако по мере того, как мрак усиливался, я инстинктивно стремился пропорционально нарастить и противовес. По-видимому, именно этим объясняется бурная вспышка моих дурацких инициатив, пришедшаяся на время четвертого и отчасти пятого класса.
Поздней осенью 1971 года, когда выезды на дачу практически завершились, у меня вдруг возникло горячее желание исследовать московские переулки и наносить их на карту. В Главе*** я уже говорил о том, что качество схем московских улиц, продававшихся в киосках, было ниже всякой критики. Я, со своей стороны, знал город очень поверхностно, как его знают почти все люди, привыкшие "танцевать", словно от печки, от ближайшей станции метро. Меня, конечно, не раз вывозили в центр, я ходил по улице Горького (Тверской), по Кремлю и Красной площади, имел представление о Садовом и Бульварном кольце, и пр.; но все это случалось бессистемно, от раза к разу, вылазки никак не увязывались между собой, так что в моей голове плавала каша лоскутных впечатлений. Между тем, мне всегда была присуща хорошая зрительная память и умение ориентироваться на местности. Куда бы я ни шел, где бы ни находился, я обязательно представлял себя в известной точке карты, т.е. всегда мог ответить, в какой стороне центр, где север, и какая большая улица ожидает нас впереди.
Впрочем, большие улицы, показанные даже на дрянных схемах, интересовали меня очень мало. Я стремился исследовать переулки - и не столько даже пройтись по ним и осмотреть их, сколько выяснить их имена и взаимное расположение. Иными словами, если я мог нанести на карту переулок без его личного посещения, я туда и не ехал.
Эти тайные экспедиции получили название "картовых походов", по явной аналогии с "крестовыми". Они начались примерно в ноябре 1971 года и, с некоторыми перерывами, тянулись до самых летних каникул, чтобы в дальнейшем уже не возобновляться. О том, чтобы прогуливать уроки, в те времена жесткой (и даже жестокой) дисциплины боялись помыслить даже отпетые двоечники, не то что я. Но после уроков, в особенности когда их было только пять, я мог позволить себе двухчасовую задержку, которая объяснялась Валентине классным дежурством или еще чем-нибудь. Валентина безразлично кивала головой, а дед, которому я обязательно докладывал результаты, не считал нужным поднимать тревогу.
В сущности, такое отношение Ларионовых к моей самодеятельности не заслуживает никаких оправданий. Конечно, в те времена Москва была практически свободна от криминала, по крайней мере, днем и в центре города; тем не менее, вряд ли можно одобрить тайные блуждания десятилетнего мальчика в одиночку по глухим переулкам, где - в случае чего - родителям даже не придет в голову его искать.
Всякий картовый поход являлся важным историческим событием; существовала специальная тетрадь, куда он заносился с порядковым номером и кратким описанием маршрута; кроме того, у меня в портфеле лежал блокнот для путевых пометок. Я очень кстати обнаружил, что школьная столовая работает и после уроков (там питалась "группа продленного дня" и учителя); поэтому, собравшись в новую экспедицию, я первым делом устраивал плотный обед, который запивал стаканом яблочного компота, и путешествовал уже на сытое брюхо.
Понятно, что раньше всего были обследованы окрестности школы и нашего дома - иначе говоря, вся Лужнецкая излучина. Значительная часть ее была мне известна из давнишних прогулок с Ольгой; теперь я снова повторил те маршруты, уточнил названия и составил схемы с указанием светофоров и некоторых магазинов. Дальше, за Большой Пироговской улицей, начинались уже незнакомые места. Я хаотично тыкался то с одной, то с другой стороны, обследуя всё новые кварталы переулков, которые в те времена еще не дождались безжалостной предолимпийской чистки и потому встречали меня обилием деревянной рухляди, черными бревенчатыми стенами, водозаборными колонками на тротуарах и пр. Жаль, что мои летучие экспедиции не фиксировали в памяти конкретных деталей этой московской старины, которая уже была обречена сносу.
За что бы я ни брался (а брался я всегда за что-нибудь новое), на первых порах, по неумению, оно шло вкривь и вкось, но так как я упорно стремился к порядку и рационализации, моя деятельность скоро входила в более или менее практичное русло. Так, уже на первых порах я догадался, что бессистемные и теоретически неподготовленные походы неэффективны. И я, словно Ливингстон, планирующий вторжение в самые джунгли Африки, накануне вечером раскладывал негодную схему Москвы для общего уяснения обстановки.
Я стал задаваться конкретными целями: положим, исследовать пространство, обрамленое четырьмя большими улицами. Чтобы не путаться в дороге, я запоминал названия этих улиц и также тех немногих переулков, которые, по счастью, значились на схеме. Затем я брал бабушкин справочник улиц Москвы 1964 года и по косвенным данным выяснял дополнительные факты: допустим, Земледельческий переулок, отмеченный на схеме, упирался концами в два неподписанных проезда; я находил этот переулок в книге, и там значилось, что он "расположен между улицей Бурденко и Ружейным переулком". Теперь, в свою очередь, я отыскивал в справочнике эти названия, и т.д., до тех пор, пока в моей голове уже загодя не складывалась известная картина местности.
Я также отправился в библиотеку и достал там двухтомник историка Сытина, где содержалось множество ценных сведений по топонимике Москвы. В результате мои странствия получили дополнительную историческую координату, без которой ни в каком деле настоящее понимание невозможно. Теперь я до некоторой степени представлял логику роста города, причины появления на карте тех или иных улиц именно здесь, и пр.
В самих походах также выработались рационализаторские приемы. Если, к примеру, переулки в массе своей шли параллельно друг другу, как это есть между Остоженкой и Пречистенкой, то я обследовал их через один: это гарантировало от пропуска поперечных улиц и притом ускоряло исследование вдвое. Если переулок был прямым и коротким, я уже с торца видел, что никаких поперечных улиц там нет, и шел себе дальше. Кроме того, мне помогали фонари. Дело в том, что в узких проездах центра фонарных столбов, как правило, не бывает, а есть лишь лампы, подвешенные на тросах между домами, и тянущиеся над мостовой четыре провода. Если издали как будто виднелось устье неизвестного переулка, но провода освещения туда не ответвлялись, я понимал, что это просто дворовый проезд. И обратно, встречались совсем незаметные улочки, даже выходящие в подворотни, которые я бы наверняка прозевал, если бы не ответвление проводов.
Конечно, сегодня я уже не могу восстановить историю моих блужданий по городу. Главным их принципом была последовательность и методичность: я не имел права соваться в дальние переулки, пока не нанес на карту ближние. Изученная территория медленно растекалась сплошным пятном без единого пробела в тылу. Я жертвовал скоростью ради обстоятельности; конечно, туристы меня не одобрят, но в результате я до сих пор очень неплохо знаю карту центра Москвы во всех ее подробностях.
Когда в результате путешествий оказывался обследованным целый большой район (например, арбатские переулки), я садился за письменный стол и с великой таинственностью, озираясь на дверь, изображал карту, с приблизительным соблюдением масштаба, на листе писчей бумаги. Улицы и переулки рисовались в две линии черной шариковой ручкой и аккуратно подписывались; жилые кварталы закрашивались легкой красной сеточкой, бульвары и парки - зеленой. Проезды, не имевшие собственных названий, щедро получали их от меня без утверждения в Моссовете; так, например, короткий безымянный проулок, выходящий на Большую Никитскую (улицу Герцена) как раз напротив храма Вознесения, где вроде бы венчался Пушкин, получил хорошее название "Проезд Навозных Мух" (по свалке у тамошнего продовольственного магазина). Впрочем, обыкновенно в дело шла астрономическая тематика - имена планет, звезд и созвездий.
Затем лист складывался поперек втрое, снаружи я проставлял название карты, много печатей и штамп "Совершенно секретно". У меня была коробочка из-под конфет, красная, с летящим серебряным оленем. Все карты укладывались внутрь, на крышке также красовался штамп "Совершенно секретно", и она открыто стояла на письменном столе. Потом - в качестве дополнительной предосторожности - я устроил там двойное дно: сверху лежали карандаши и ручки, затем прокладка из ватмана с надписью "Больше ничего нет", и уже под ней - карты. Кажется невероятным, что родители ни разу туда не заглядывали, а если и лазили, то - с их поразительным безразличием к сыну - просто не утрудились понять, откуда могли взяться у него столь подробные карты переулков. Ну, пишет себе дурак какие-то кривые бумажки, ну и черт с ним.
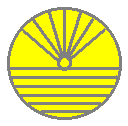 Также я забрал у матери сломанную желтую пуговицу от сарафана; на ней были прочерчены борозды, похожие на переулки, и потому она сделалась талисманом моих странствий. Когда я отправлялся в очередной картовый поход, эта пуговица непременно лежала в кошельке.
Также я забрал у матери сломанную желтую пуговицу от сарафана; на ней были прочерчены борозды, похожие на переулки, и потому она сделалась талисманом моих странствий. Когда я отправлялся в очередной картовый поход, эта пуговица непременно лежала в кошельке.
Общие границы исследованных земель, достигнутые к лету 1972 года, были следующие: за пределами Садового кольца - вся Лужнецкая излучина плюс квартал между Бородинским и Ново-Арбатским мостами; внутри Садового кольца - территория от Москвы реки до Неглинной улицы и Цветного бульвара (это был естественный рубеж досягаемости на 31-м троллейбусе), и также весь Китай-город. Целая куча секретных карт заполняла мою коробку с оленем. Но тут против меня восстали два фактора: во-первых, я уже вдоволь насытился географией; во-вторых, фронт наступления был отнесен так далеко от школы, что я уже не укладывался в тот краткий период времени, который на вызывал подозрений дома.

Последние мои подвиги пришлись на конец мая 1972 года. Тогда я исследовал остров против Кремля - от сладко пахнувшей карамелью фабрики "Красный Октябрь" до провинциальных домиков Шлюзовой набережной, как раз напротив здания МИСИ, где я впоследствии учился. Эти домики накануне были расселены, и вид сорванных дверей, выбитых стекол и разбросанной мебели произвел на меня столь гнетущее впечатление, что я в панике бросился оттуда бежать и потом, через несколько лет, даже воспел свои эмоции в стихах. Сейчас на этом месте поднимается огромный бизнес-комплекс 1990-х годов.
Примерно такие же чувства у меня несколько ранее вызвала и пустынная Саввинская набережная: мистическим ужасом веяло от черной воды за парапетом, и я поспешил вернуться назад в переулки. Бывали и такие места, которые никак не удавалось правильно нанести на карту: к примеру, центральную часть массива арбатских переулков, где они повернуты под углом к обрамляющим магистралям и закручены, словно в водовороте.
Самая последняя экспедиция (тридцать-какая-то по счету) нацелилась в треугольник между Яузой, Москвой-рекой и Таганской площадью. Уже начинались каникулы, и я решился пригласить за компанию Сережу, соседа по парте; он действительно явился в походной одежде и до обеда бродил со мной в переулках Гончарной набережной, но не нашел в этом занятии никакого интереса. Летняя же отлучка перелистнула страницу, и эпоха исследования Москвы отошла в прошлое.