 Довоенный быт (1)
Довоенный быт (1)
Автор: Михаил Глебов, 1999
Как указывалось в предисловии к предыдущей статье "Дурная наследственность", мое желание разобраться в духовном смысле собственной биографии породило ряд отступлений, более или менее удаленных от главной темы. И поскольку они могут представлять для сторонних читателей некоторый интерес, я счел возможным, просмотрев и сократив, выложить их на всеобщее обозрение. Данная статья, как это видно из названия, является бытописательской. Сам я, конечно, тогда еще не родился, но постоянно выслушивал рассказы своих домашних и наконец, упорядочив, зафиксировал их в письменном виде. Подчеркиваю: я не рылся в архивах и не изучал специальной литературы (которую сегодня, в принципе, нетрудно достать), поэтому вполне допускаю возможность тех или иных ошибок. Но не это главное. Ибо здесь представлены свидетельства очевидцев, которые, не рассуждая и не мудрствуя, просто жили в этой действительности, и запомнили ее характерные черты, и - пусть скомканно - передали следующему поколению.
В то время семья моей матери - Ларионовы - обитали на Покровке, в одном из домов Казарменного переулка. Семью составляли Алексей (мой будущий дед), Валентина (моя бабушка), Рита (моя мать), Ольга и Софья Кононовы (сестры Валентины) и Ираида Петровна (мать троих сестер). Именно их глазами мы и увидим клочок той давно позабытой эпохи.
Тридцатых годов неуют,
Уклад коммунальной квартиры, -
Теперь уже так не живут.
(А.Городницкий)
Жизнь всякого человека в немалой степени определяется его повседневным бытом. Не зная этой стороны дела, не поймешь и не оценишь правильно многие биографические факты. Тем более что предвоенный городской быт кардинально отличался от сегодняшнего, равно как и от предшествовавшего ему дореволюционного. Это была встреча двух совершенно разных эпох цивилизации: эпохи свечей, дровяных складов, выгребных ям, булыжных мостовых, гужевого транспорта и рукописных документов - и эпохи асфальта, синтетических тканей, телевидения, коммунальных удобств, личных автомобилей и всевозможной оргтехники.
В развитых странах мира этот переходный этап занял первую треть ХХ века, был увековечен в комедиях Чаплина и канул в небытие накануне войны. Россия ко времени революции, за исключением центральных кварталов Петербурга, еще полностью жила в прошлом. Большевики в погоне за мировым господством пошатнули этот патриархальный уклад, опрометью строили аэродромы, электростанции и домны, а следом неизбежно подтягивалась бытовая инфраструктура. Но поскольку жизнь простого человека никого, в сущности, не интересовала, вся техническая мощь государства проходила мимо нее; и эта обывательская жизнь, предоставленная самой себе и стиснутая всевозможными нехватками, приспособилась жить как бы в тамбуре двух вагонов, между прошлым и будущим. Это неестественное, изматывающее бытовое неустройство затянулось в Москве до исхода пятидесятых годов. Ни в малой степени не претендуя на полноту охвата темы, я покажу некоторые детали глазами знакомых нам обитателей Казарменного переулка.
Казарменный переулок
На исходе XIX столетия Москву называли "большой деревней" не только из-за преобладания деревянных домов. Дома эти, расположенные по периметру кварталов, имели в тылу обширные дворы, переходившие в огороды, выгоны для скота, а нередко в усадебные парки с прудами и беседками, в рощицы и даже целые поля, засеянные пшеницей. Этот деревенский колорит удачно передал Поленов в своем "Московском дворике", прообраз которого еще в 1870-х годах существовал в переулках Арбата. До начала ХХ века, когда массовое строительство доходных домов взвинтило цены на городскую землю, центральные части кварталов оставались, как правило, незастроенными. Когда же началась застройка, никто не хотел выделять часть своей дорого купленной земли на дополнительные переулки, обходясь подворотнями и проходными дворами. Вот почему даже в старой части города иные кварталы столь велики, что их трудно обойти кругом. Там же, где этих пустых пространств изначально не было, переулки буквально налезают друг на друга (к примеру, на Сретенке).
Подкова Земляного Города, зажатая между двумя линиями укреплений, состояла из вереницы больших прямоугольных кварталов, как фотопленка из отдельных кадров. Радиальные дороги резали подкову поперек, следуя транзитом из ворот в ворота; между ними на большом протяжении обе крепостные стены были глухими, и ходить там было некуда. Поэтому внутри каждого большого квартала появлялись свои маленькие улицы, параллельные стенам и позволявшие жителям удобно добираться от одной радиальной магистрали до другой. В стороны от этих улочек стали в разных местах протаптывать дорожки и тупики, сформировав сеть коротких поперечных переулков.
Именно эту градообразующую схему видим в большом квартале Земляного Города между Покровским бульваром, Покровкой (улицей Чернышевского), Земляным валом (улицей Чкалова) и Воронцовым Полем (улицей Обуха). По оси квартала тянется бесконечный Введенский переулок, носящий с 1920-х годов имя давно забытого революционера Подсосенского. Поскольку квартал в сторону Покровки значительно расширяется, от Подсосенского переулка на середине его длины отходит под очень острым углом другой переулок, Лялин, увековечивший имя жившего здесь купца. От Лялина переулка к Курскому вокзалу напрямик спускается Яковоапостольский переулок, прозванный в честь соседней церквушки XVII века и долгое время носивший имя Елизаровой (фамилия старшей сестры Ленина, Анны, по мужу).
 Казарменный переулок, вид в сторону Подсосенского переулка.
Казарменный переулок, вид в сторону Подсосенского переулка.
Фактическим продолжением Яковоапостольского переулка в сторону Покровского бульвара служит короткий Казарменный переулок. До революции его называли Дегтярным; другой Дегтярный переулок до сей поры существует на Тверской, и из-за этого постоянно выходила путаница. Наконец уже в советское время его переименовали в Казарменный, потому что он вытекает на бульвар из-за огромного классического здания Покровских казарм.
Когда начался строительный бум, участок земли по правой стороне Казарменного переулка, если смотреть с бульвара, купил богатый немец Гофман. Участок был узкий и длинный, зажатый между соседними владениями и далеко уходивший вглубь квартала. По переднему его краю, вдоль переулка, Гофман построил первый, самый респектабельный 3-этажный дом, огромную квартиру в котором собирался занять Константин Иванович Кононов [мой прадед, муж Ираиды Петровны, умерший в революцию]. В доме была подворотня, ведущая ко второму корпусу поменьше, за которым стоял еще третий, деревянный, для самых малоимущих. Рядом с ними уцелел остаток старого дворянского парка с прудами и стаями лебедей. Вскоре его купил богатый промышленник Панишев, засыпал пруды и на их месте возвел три гигантских восьмиэтажных корпуса для жильцов разной степени состоятельности. Незадолго до Мировой войны Гофман умер, и все права владения перешли к двум его безалаберным дочерям. Дело на первом доме застопорилось, и семья Константина Ивановича, временно поселившись в свободной квартире второго корпуса, волею судьбы прожила в ней до исхода 1950-х годов.
Десятая квартира
Кирпичный дом во дворе владения Гофмана, где жили Кононовы, а со временем и Ларионовы, был двухэтажным и очень небольшим в плане. В середине его располагалась парадная лестница, ведущая в четыре квартиры, по две на каждом этаже. Нумерация квартир во всех трех домах, принадлежавших Гофману, была сквозная, а так как первые шесть из них (самые респектабельные) находились в главном корпусе с подворотней, квартира Кононовых на втором этаже дворового флигеля оказалась по счету десятой, и этот номер сохранился за ней навсегда.
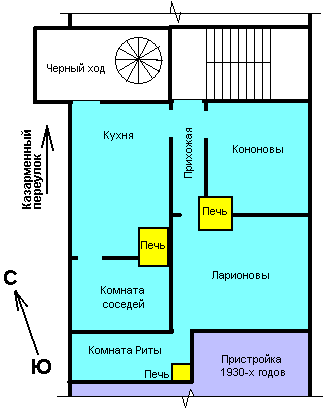 Поднявшись по узкой лестнице и открыв тяжелую двойную дверь слева, посетитель оказывался в большой темной передней. Вдоль стен стояли вешалки и шкафы с барахлом. Дверь налево вела в помещение с двумя окнами, где жили Ираида Петровна, Ольга и Софья. Прямо из передней можно было пройти в комнаты Ларионовых: большую, с двумя окнами по фасаду, и малую, освещавшуюся узким окном в торцевой стене дома. Она считалась "детской", и там жила Рита.
Поднявшись по узкой лестнице и открыв тяжелую двойную дверь слева, посетитель оказывался в большой темной передней. Вдоль стен стояли вешалки и шкафы с барахлом. Дверь налево вела в помещение с двумя окнами, где жили Ираида Петровна, Ольга и Софья. Прямо из передней можно было пройти в комнаты Ларионовых: большую, с двумя окнами по фасаду, и малую, освещавшуюся узким окном в торцевой стене дома. Она считалась "детской", и там жила Рита.
На стыке всех комнат стояла голландская печь, облицованная белым кафелем.
Направо из передней был вход в обширную кухню, а из ее дальнего конца, в свою очередь, можно было попасть в маленькую комнатенку (вероятно, бывшую кладовку), куда в революцию из-за угрозы уплотнения Ираида Петровна пригласила свою дальнюю родственницу Марью Васильевну. После ее вероломного отъезда комнату последовательно занимали древняя старуха Паисия, милиционер с женой (которого поначалу опасались как осведомителя) и молодая пара с ребенком. Все они оказались людьми мирными и хлопот не доставляли.
Паисия была девяностолетней вдовой фабриканта Елагина; две ее взрослые дочери ютились в каморках в доме напротив. Однажды утром - это было еще до войны - Паисия не вышла на кухню готовить завтрак. Ираида Петровна забеспокоилась, постучала в дверь, потом зашла и видит: лежит старуха на кровати мертвой. Ираида Петровна сходила за дочерьми, те прибежали и, перерыв комод, стали с алчностью напяливать на себя одно платье поверх другого (чтобы соседи не видели их выносящими свертки). Я, правда, не знаю, чем было вызвано стремление к такой секретности.
В опустевшую комнату вселился молодой статный милиционер Андрей, родом из Орла. Его простоватая мать Аграфена временами наезжала в гости и свела близкие отношения с Ираидой Петровной. Оставшись в оккупации, она варила обеды вежливым немецким офицерам, которые у нее квартировали, и впоследствии не могла обвинить их ни в чем худом. Сам Андрей не стоял на посту, но работал где-то в управлении, а его брат Павел даже окончил строительный вуз. Когда Рита после войны поступила в МИСИ, он по собственной инициативе переслал ей целую гору конспектов.
Заняв комнату, Андрей первым делом снес на помойку старухину рухлядь, собственноручно побелил стены и потолок и наконец обзавелся женой Ириной, говорливой украинкой из Киева. Вскоре у них родились два сына, старшего из которых крестила Ольга. После войны Андрей начал прикладываться к бутылке. Однажды, когда Ирина уехала с детьми на родину в Киев, он, перепившись до беспамятства, валялся на холоде под забором и подхватил туберкулез. Ираида Петровна встревожилась и каждое утро ополаскивала в кухне раковину кипятком. Наконец Алексей (тогда уже работавший в Совмине), переговорил с кем положено, и Андрееву семью без лишних дискуссий выселили в другой дом, где он вскорости и умер.
На смену милиционеру въехала молодая, интеллигентная еврейская пара Ставицких с двухлетним сыном, которого все звали Милягой. Однажды к нему наняли сиделку, которая в первый же день стала расставлять все на кухне по-своему и кричать Ираиде Петровне, что она на всех найдет управу. Вечером Алексей, одев костюм, заглянул к соседям, и больше эта сиделка не появлялась.
К торцевой стене лестничной клетки примыкало обширное помещение черного хода, куда можно было попасть из кухонь обеих квартир этажа. В середине размещалась чугунная винтовая лестница для доставки дров, воды и прочих припасов. Ее окружали громадные темные шкафы, на дверцы которых навешивались амбарные замки. Фасад в этом месте несколько выступал за линию дома, и ветер, продувая сквозь узкие боковые оконца, высушивал белье на веревках. Здесь же была кабинка уборной: от прорези в сиденьи вертикальный дощатый короб спускался к выгребной яме. Впрочем, еще до революции в дом провели водопровод и устроили канализацию. Яму засыпали, в кухне выгородили кабинку, а на стене по соседству укрепили мойку.
На исходе двадцатых годов, к общему ужасу обитателей, развернулся капитальный ремонт дома. Черный ход сломали, на его месте устроили еще одну крохотную квартирку. Сверху дом надстроили двумя этажами, а с торца, куда смотрело окно "детской", прилепили дополнительную секцию, в которой разместилось проектное учреждение "Техбетон". Алексей тут же подал на застройщика в суд, доказывая, что он и так до революции никакого света не видел, а теперь в комнате ребенка единственное окно загородили. Советский суд прислушался к жалобе трудящегося и обязал выделить ему в новой части здания дополнительную комнату с одним окном. Рабочие кое-как продолбили метровую внешнюю стену дома, навесили дверь, а в новом корпусе отгородили очень длинную и узкую комнату с невероятной высотой потолка 4,5 метра. В этой несуразной комнате поселилась Рита, сперва одна, а в пятидесятые годы - с мужем Иваном [моим будущим отцом]. Алексей же, отсудив дополнительную площадь и дождавшись завершения работ, потихоньку сломал перегородку, разделявшую прежние две комнаты, так что получилась одна большая, квадратная в плане.
Чтобы ребенок не мерз зимой, в новой комнате рабочие сложили небольшую кирпичную печку. Поскольку верхние этажи подобных печек, конечно, не имели, дымоход пришлось вывести куда-то вбок. Наружные стены новой части дома были выполнены прогрессивным советским способом: в полые бетонные блоки засыпали черный теплоизолирующий шлак. Этот шлак со временем уплотнился и осел, оставив работников "Техбетона" и жильцов верхних квартир, так сказать, нагишом на морозе. Забавно, что одним из жильцов оказался инженер, собственноручно запроектировавший эту пристройку. У Риты на втором этаже было еще терпимо, хотя и здесь в морозные дни наружная стена покрывалась пушистым инеем.
Вскоре после войны в доме провели центральное отопление, а следом и газ. Голландскую печку, верно отслужившую четыре десятка лет, оставили стоять без дела, а кухонную дровяную плиту сломали, заменив обычной газовой. Рите с Иваном не давала покоя малая печка в их комнате, потому что на ее место просился платяной шкаф. Однажды ночью, собравшись с духом, они разломали ее и обломки кирпича выбросили из окна. За печкой из стены торчал конец швеллера; они стали раскачивать его и наконец выдернули. Открылась дыра в помещение соседней бухгалтерии Техбетона; швеллер там поддерживал вентиляционный короб, и он провис колбасой. К тому же из отверстия прямо на чей-то рабочий стол вывалился кирпич. Рита с Иваном кое-как заделали предательскую дыру и с трепетом стали ждать развития событий.
Время было сталинское, и последствия могли выйти плачевными. Но им повезло. Кирпичные обломки под окном к утру были начисто растащены окрестными жителями. В бухгалтерии не поняли, что случилось, но на всякий случай вызвали жилищную комиссию. Эта комиссия с чертежами в руках явилась в комнату к Рите и не нашла печки. Рита, сама будучи инженером, легко доказала им, что печки в многоэтажных домах всегда располагаются строго одна над другой; на прочих этажах никаких печек нет; следовательно, печка в ее комнате - простая чертежная ошибка. Члены комиссии соскребли с чертежа печку, извинились и ушли.
Улицы
Улицы в Москве были сплошь булыжные. Только к началу войны наиболее важные магистрали оделись в асфальт. Этому главным образом способствовала сталинская реконструкция центра и Садового кольца. Переулки же большей частью оставались булыжными до конца пятидесятых годов.
Булыжное покрытие встречалось двух типов. Улицы поважнее и переулки в местах крутых спусков были выложены брусчаткой - аккуратными тесаными кубиками сиреневого и черного гранита. Брусчатка выкладывалась по песчаному основанию веерами, отчего мостовая издали смахивала на рыбью чешую. Через несколько лет дождевая вода размывала песчаное основание, телеги проминали в мостовой колеи, и требовался ремонт. Специальные рабочие выковыривали брусчатку, разравнивали под ней песок и снова с китайским терпением укладывали, впечатывая каждый камень на место тяжелыми деревянными трамбовками.
Менее важные улицы и переулки были вымощены округлыми необработанными камнями произвольного размера. Эта мостовая именовалась в просторечии кошачьими головами, и ее не любили. Колеса дребезжали, перескакивая с камня на камень; у ездоков, не защищенных от тряски рессорами, немело заднее место.
Проезжая часть улиц и переулков до революции относилась к ведению городских властей, тротуары же оставались на совести домовладельцев, и они мостили их кто чем догадался. Возле респектабельных зданий укладывали плоские гранитные плиты или чугунные квадраты с орнаментом; хозяева поплоше накидывали горбылей или вовсе обходились песочком. Советская власть не уважала такую разносортицу, и уже к середине тридцатых годов все тротуары были заасфальтированы (т.е. гораздо раньше, чем прилегающая проезжая часть). Возле каждого дома намертво вкапывались в землю невысокие чугунные коновязи, круглого сечения, с кольцевым пазом для поводьев и фигурной шишечкой наверху.
Вдоль мостовой торчали четырехметровые чугунные столбы газовых и керосиновых фонарей с прямоугольными мутными стеклами. Покосившиеся и поломанные, они сохранились в переулках до самой войны, но уже не горели. Вместо них на растяжках между домами вешали обыкновенные электрические лампы накаливания, которые ночами тускло освещали середину переулка.
В тридцатые годы гужевой транспорт только еще начинал сдавать позиции автомобильному. Извозчики почти исчезли, но подвоз товаров на склады и в магазины осуществлялся большей частью на подводах. Лошади гадили, дворники выметали подсохший навоз с булыжника. Специальной техники для уборки улиц не существовало, поэтому чистота тротуара и половины проезжей части входила в обязанности соответствующего дворника. Особенно тяжело им приходилось зимой. Зимы тогда были морозные и очень снежные; дворники как проклятые скребли в переулках снег и волокли его к себе во дворы, где эти гигантские кучи использовались ребятней для катания на санках и таяли и текли до самого лета. С больших магистралей снег на подводах вывозили и сбрасывали в реку.
Центральные улицы города были почти лишены зелени. Бульварное кольцо и несколько чахлых скверов выглядели настоящими оазисами в пыльной булыжной пустыне. По узким ущельям улиц дребезжали трамваи, занимавшие всю середину. Кабели еще не укладывались в землю, и небо оплетала путаница проводов - электрических, телеграфных, телефонных. По мере удаления от центра каменные дома царского времени с облупившейся лепниной фасадов уступали место деревянным избам, зачастую двухэтажным, сложенным из почерневших от непогоды бревен. Кое-где между ними вклинивались длинные унылые бараки, под завязку набитые рабочими семьями. (Все это я еще застал в 1960-е годы). Над заборами и тополями предместий возвышались красные закопченные цеха столичных заводов.
На узкой Москве-реке, еще не пополняемой волжскими водами, стояли каменные трехпролетные мосты, из которых в относительно нетронутом виде сохранились лишь Бородинский и Новоспасский. По некоторым мостам, вроде Крымского или Краснохолмского, движение осуществлялось внутри огромных решетчатых ферм. Весной тяжелые льдины лезли на гранитные быки мостов, которые выставляли против течения косые выступы-ледоломы (мостовые опоры, не оснащенные подобной защитой, срезались чудовищным давлением льда, словно ножом). На исходе апреля кто-нибудь врывался во двор с криком: "Можайский лед идет!", и все, побросав дела, спешили к реке смотреть, как ее вздувшиеся воды несли с верховьев искореженный, раздробленный лед. Бывало, что река перехлестывала через парапеты набережных и даже врывалась в жилые подвалы близлежащих домов. Особенно сильное наводнение случилось в 1908 году, когда по улицам Замоскворечья несколько дней плавали на лодках.
Зато летом река усыхала до такой степени, что на подходах к Нагатино становилась тоненьким ручейком, точнее, сточной канавой, ибо вода ее в огромной пропорции расходилась на городские нужды. Чтобы хоть как-то поддерживать судоходство, перед храмом Христа Спасителя торчал бревенчатый гребень жалкой запруды. Игрушечные плоскодонные баржи, ведомые паровыми катерами, ползли в обход Кремля по Водоотводному каналу, в нижнем конце которого, на Шлюзовой набережной, действительно имелся шлюз.
Когда в 1938 году в центре города были открыты сразу пять новых мостов (которых Сталин велел запроектировать, тщеславия ради, по различным конструктивным схемам), все ходили смотреть и удивлялись, зачем их сделали такими широкими. Русло реки было прочищено, в парапетах старинный белый камень (известняк) уступил место тесаному граниту. Ледоходы и наводнения прекратились. Оживилась и петлявшая по заводским кварталам, вконец загаженная Яуза. Ее пополнили волжской водой, поступавшей из Химкинского водохранилища по руслу притока Лихоборки.
Дворы
Дворы по периметру были огорожены высокими глухими дощатыми заборами. Обозначая границы прежних домовладений, они простояли до самой войны, когда их мало-помалу растащили на топливо и больше не возобновляли. Лишь вокруг новостроек 1930-х годов надолго сохранились ограды из кирпича и стальных прутьев, которых сжечь было нельзя.
Почти все дворы до конца сталинской эпохи оставались немощеными. Для пешеходов от переулка к подъездам тянулись вереницы квадратных каменных плит. Озеленением никто не занимался, но с дореволюционных времен сохранилось немало старых деревьев - дубов, тополей. Попытки устроить клумбы оканчивались тем, что все цветы обрывали.
Каждый двор был маленьким суверенным государством. Чтобы попасть в соседний дом, надо было выйти из подворотни на улицу и потом зайти в другую подворотню. Периодические попытки спрямить путь через дыру в заборе не встречали понимания жильцов и пресекались милицией. Впрочем, любители ходить напрямик научились отрывать у слабой доски забора только нижний гвоздь. Эта доска поворачивалась на верхнем гвозде, как на шарнире, и власти могли не замечать такой лаз очень долго.
Немногочисленные жильцы любого двора знали друг друга в лицо и при надобности сообща отстаивали свои права. Тем более, что двор был, так сказать, зоной их жизненных интересов: там сохло белье, играли маленькие дети и стояли сараи с дровами и всяким скарбом. На рассвете (до ухода жильцов на работу) сараи распахивали свои двери; оттуда несся дробный стук и треск раскалываемых поленьев. По гребням заборов бродили бесчисленные кошки, имевшиеся почти в каждой семье. Ватаги мальчишек носились и лезли куда не надо; звенели разбитые стекла, перекрываемые бранью жильцов; редкие вороны с карканьем спасались от дальнобойных рогаток. Малыши копались в кучах песка, регулярно привозившихся для дворницких нужд. Этим песком посыпали дорожки: зимой от гололеда, в прочее время - к праздникам. Бабки ежедневно спускались с совочками за песком для кошачьих туалетов.
Участковый милиционер был в жизни двора ключевой личностью. Его уважали, боялись и от мала до велика знали по имени-отчеству. Он олицетворял власть и как правило неплохо справлялся со своими обязанностями. На его суд тащили всевозможные бытовые дрязги, не доводя их, таким образом, до суда настоящего. Пользуясь современным уголовным жаргоном, можно сказать, что участковый разводил жильцов, не давая им окончательно пересобачиться. Перед майскими и ноябрьскими праздниками он инспектировал свои владения, подмечая на карандаш тех, кто не помыл окна.
Окна в старых домах были узкими и высокими, что диктовалось требованиями прочности наружных стен. Небольшие стекла были вставлены в сложные деревянные переплеты. Верхние части рам обычно не открывались. Чтобы их вымыть снаружи, человек обвязывался веревкой и, словно альпинист, висел над пропастью. Некоторые срывались со скользкого наклонного карниза и гибли.
До самой войны по дворам бродили старьевщики, чаще всего пожилые татары, бородатые и грязные, с огромными заплатанными мешками. Их громкие крики "Старьем берем!" привлекали домохозяек, которые сносили вниз ненужную ветошь и получали за нее копейки. Другие, самые нуждающиеся, подолгу копались в мешках, выбирая себе за чуть более высокую плату еще пригодное к делу тряпье. Шарманщиков к тому времени уже не осталось. Но даже я застал мужиков, таскавшихся по подъездам с огромной точильной рамой на плече. Им выносили ножи и особенно ножницы, которые по неумелости скорее испортишь, чем наточишь. На всех углах действовали маленькие и дешевые китайские прачечные. Однако китайцы чем-то не угодили Сталину и в несколько дней были поголовно высланы из города.